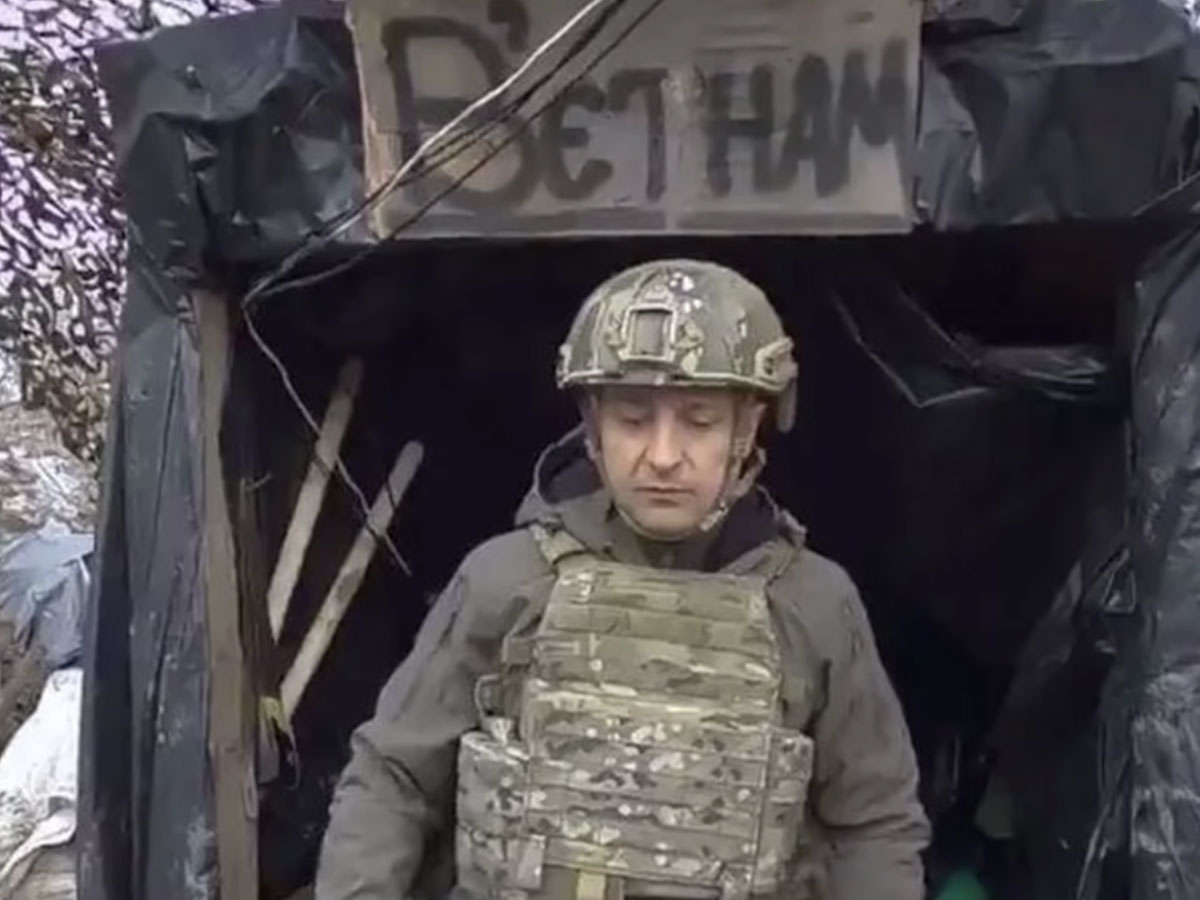Малыш в церкви
О христианском воспитании детей
Сейчас я все больше и больше понимаю, что мне не просто повезло – а повезло невероятно: православное воспитание не отвратило меня от церкви. Чтение статей о. Алексея Уминского, а также рождение сына, вдохновило меня на то, чтобы поделиться своим детским опытом, как своими воспоминаниями, так и рассказами моих родителей. А еще я поняла что хотя, в деле воспитания детей в вере, мне, наверное, легче, чем многим моим ровесницам, верующим в первом поколении, многое мне нужно обдумать и пересмотреть, и легче сделать это письменно, обращаясь к кому-то.
Нас с братом крестили в младенчестве и сразу стали ходить с нами в церковь. Ходить с младенцами на службу, или приносить к Причастию – вопрос сложный. Младенцы-то разные! Да и приходы тоже разные. С моим младшим братом все было просто и ясно: он сова и, если его приносили в храм к началу Литургии, он начинал плакать и плакал все время до причастия – спать у него не получалось, а бодрствовать он был не готов. Пришлось маме смириться и приносить его только к Причастию.
Я, наоборот, была ранняя пташка и просыпалась задолго до начала Литургии.
А с Причастием, наоборот, трудности были со мной. Я, когда меня впервые принесли причащать, испугалась. А рядом с мамой оказалась опытная многодетная бабушка, которая показала маме, что можно нажать "неблагочестивому младенцу" на щечки, девочка автоматически откроет рот, и ее причастят. Мама так и сделала, в итоге мой страх закрепился, и несколько месяцев мама не могла меня причастить, хотя в храме мне все нравилось – и ладан, и свечки, и пение. С братом мама подождала, пока он привыкнет и перестанет бояться непривычной обстановки, в результате он причащался совершенно спокойно. Я всегда удивляюсь, когда мамы заставляют младенцев причащаться, мы ведь в XXI веке живем, много знаем про психологию, в том числе про пренатальную психологию и психологию раннего детства: у такого ребенка может в подсознании закрепиться отрицательное восприятие и Причастия и пребывания на церковной службе. Вряд ли ребенок долгое время без видимой причины будет отказываться от Причастия. Как правило, малыши просто пугаются незнакомой обстановки; как ребенок привыкает к храму, он и причащаться соглашается с радостью.
В некоторых храмах, особенно тесных и с хорошей акустикой, даже радостное гуление младенца может мешать. В моем нынешнем приходе, например, слышно каждое движение прихожан, и батюшка вынужден перед началом каждое службы просить нас, чтобы мы не шуршали пакетами. Что уж и говорить о младенцах... Конечно, можно сказать, что это голос ангела, но понятно ведь что кого-то такой "ангелочек" может и раздражать, и мешать, и не нам, чадолюбивым, таких людей судить. В таком случае, думаю, выхода два. Первый – приносить к Причастию. Но, во-первых, кормящей маме тогда будет очень сложно тоже выбраться причаститься. А, во-вторых, для многих семей очень важно ходить в церковь и причащаться всем вместе: все-таки недаром семья – Малая Церковь, и совместная молитва в храме помогает строить ее здание. Второй выход возможен в храмах, где есть помещение, куда можно отнести шумящего ребенка. А родители и волонтеры могут там дежурить по очереди. В моем приходе был такой опыт. Молодежь из нашего храма тогда собиралась после Литургии: мы вместе пили чай и читали воскресное Евангелие, некоторые из нас ездили в детский дом; а потом мы поняли, что хотим что-то делать вместе именно для нашего храма. И вспомнили несчастных родителей, которые никогда не могут пойти на службу вместе. Мы посчитались, и оказалось, что нас так много, что если мы по двое будем дежурить в детской комнате, пропустить воскресную Литургию придется всего лишь четыре, ну пять раз за год. Правда, поначалу, родители так обрадовались, что полностью на всю службу бросали на нас детей, а сами никогда не оставались. Но через некоторое время сообразили, и стали приносить к нам детей только, когда те начинали шуметь – к службе ведь тоже можно постепенно приучать.
Сейчас молодежная группа распалась и больше не дежурит в детской, почти у всех жизнь изменилась, многие сами стали родителями. Но можно ведь и семьями то же самое организовать: одна семья сидит со всеми детьми, мама и папа вместе, остальные родители – в храме, в другой раз – другая.
Можно и занятия во время службы устраивать, но об этом – в следующий раз.
В храмах, где нет свободного помещения, конечно, сложнее, не на мороз же грудничков выгонять! Тогда приходится терпеть: либо батюшке и прихожанам, любящим тишину, либо родителям, любящим ходить в храм вместе.
Мне, повторюсь, повезло. В храме, куда меня в младенчестве носили, к агуканью относились терпеливо, только к воплям – плохо. Но чтобы младенец в храме не вопил, а гулил, тоже нужно хотя бы минимальное терпение ближних... Мама постоянно ходила со мной по храму: от подсвечника к подсвечнику, от иконы к иконе (я очень любила смотреть на свечки, а потом и иконы стала разглядывать). Одно из самых первых моих воспоминаний: мама учит меня совершать Крестное знамение, я еще совсем плохо разговариваю, и у меня не получается соединять движения со словами. Я делаю по жесту на слово, а мама пытается на словах "и Святого Духа" удержать мою руку на правом плече, чтобы она оказалась на левом одновременно со словом "Аминь".
Следующее воспоминание – я в пустом храме учусь ходить, видимо, перед службой. Я топаю, а мама разворачивает меня лицом к Алтарю и говорит: "нельзя спиной поворачиваться к Алтарю, там – Бог!"
Чем дети старше, тем сложнее, ведь просто смотреть на свечки надоедает, и ребенка надо развлекать. Мы с братом оба любили пение, единственный момент, когда нас обоих было необходимо развлекать – когда читались молитвы перед Причастием. От монотонного чтения мы скучали. Тогда мама вела нас прикладываться к иконам. Если одновременно шла исповедь, и ожидание затягивалось, иногда приходилось подвести нас ко всем иконам в храме! Когда мне было года два, помню, как мама учила меня ставить свечки; мне очень нравилось подносить нижний конец свечки к огню, чтобы воск размягчился, и свечка хорошо держалась.
Еще чуть позже, когда я уже запомнила все иконы, и просто целовать их было неинтересно, мама стала потихоньку рассказывать мне жития. Помню, как мама рассказывает нам с братом житие св. Георгия Победоносца, конечно, не про мучения, а чудо со змием. Мне именно этот рассказ ярко запомнился потому, что произвел огромное впечатление на моего младшего брата. Ему было года четыре, значит мне – семь. Он потом бесконечно рисовал св. Георгия, побеждающего змия, и даже сохранилась дощечка с выжиганием, на которой брат изобразил именно эту сцену.
Даже когда мы были совсем маленькие, родители с нами молились. Я очень хорошо помню весь наш "вечерний ритуал". После купания вся семья собиралась в нашей комнате, папа читал предначинательные молитвы, до Молитвы Господней, "Отче Наш" мы пели все вместе, потом еще пели "Богородице Дево" и то, что я больше всего любила, молитву Богородице: "Радуйся, Радосте наша, и покрый нас от всякого зла святым Твоим Омофором". У меня над кроваткой всегда висела икона Покрова Богородицы и ангел, кажется, "Златые власы". Что висело над кроваткой брата – не помню, кажется, как раз, "Чудо св. Георгия о змие". Мы, дети, молились стоя в кроватках, когда я подросла – я становилась в кроватке на колени. Так было проще нас уложить, особенно брата, не любящего рано ложиться. Если брат молился не в кроватке, он отказывался ложиться и убегал, а сразу после молитвы папа садился рассказывать сказку, и убегать уже никому не хотелось!
Еще помню, как родители готовили нас к воскресной службе, а особенно – к праздникам. Мама читала нам Евангелие, отвечала на наши вопросы, объясняла непонятное. Мы, обычно, слушали и рисовали то, о чем мама читала и рассказывала. Если в Евангелии не говорилось о празднуемом событии, как, например, на Покров – мама рассказывала нам содержание праздника. А потом мама переводила нам на русский язык и поясняла тексты тропаря и кондака. Тут подключался папа: мы с братом очень любили петь, а мама у нас совсем без музыкального слуха, поэтому выучить с нами тропари и кондаки наизусть мог только папа. Потом, в церкви, мы с братом с нетерпением ждали момента, когда запоют тропарь. Нам нравилось, когда пели особенно звонко и торжественно, но еще больше нам нравилось то, что мы сами могли подпевать хору.
Мария Великанова